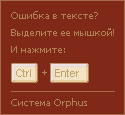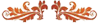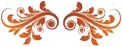Иван Ильин
О России
Почему мы верим в Россию?
О русском национализме
Опасности и задания русского национализма
О русской идееПочему мы верим в Россию?
Где бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о нашей Родине, о России. Это естественно и неизбежно: эта скорбь не может и не должна нас покидать. Она есть проявление нашей живой любви к Родине и нашей веры в нее.
Чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам необходимо верить в то, что не иссякли благие силы русского народа, что не оскудели в нем Божии дары, что по-прежнему лишь на поверхности омрачненное живет в нем его исконное боговосприятие, что это омрачение пройдет и духовные силы воскреснут. Те из нас, которые лишатся этой веры, утратят цель и смысл национальной борьбы и отпадут, как засохшие листья. Они перестанут видеть Россию в Боге и любить ее духом, а это значит, что они ее потеряют, выйдут из ее духовного лона и перестанут быть русскими.
Быть русским значит не только говорить по-русски. Но значит — воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар Божий, данный самим русским людям, и в то же время — указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства других народов и требовать для этого дара свободы и самостоятельности на земле. Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее непреходящей субстанции и любовью принимать ее как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским значит верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу. Может быть, и не прав Тютчев, что «в Россию можно только верить», ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидать ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима: без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить.
Пусть не говорят нам, что Россия не есть предмет для веры, что верить подобает в Бога, а не в земные обстояния. Россия перед лицом Божиим, в Божиих дарах утвержденная и в Божием луче узренная, — есть именно предмет веры, но не веры слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и разумом обоснованной. Россия, как цепь исторических явлений и образов, есть, конечно, земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов, оно должно проникать в их внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляет дух русского народа и сущность России. Мы, русские люди, призваны не только знать историю своего Отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик.
Мы должны видеть наш народ не только в его мятущейся страстности, но и в его смиренной молитве; не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах; не только в его войнах, но и в сокровенном смысле этих войн. И особенно — в том скрытом от постороннего глаза направлении его сердца и воли, которым проникнута вся его история, весь его омолитвованный быт. Мы должны научиться видеть Россию в Боге — ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы должны по-новому — духовно и религиозно — осмыслить всю историю русской культуры.
И когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ всю свою жизнь предстоял Богу, искал, домогался и подвизался, что он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божиими мерилами; что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась и молитва всегда составляла живое естество его духа.
Верить в Россию значит видеть и признавать, что душа ее укоренена в Боге и что ее история есть возрастание ее от этих корней. Если мы в это верим, то никакие «провалы» на ее пути, никакие испытания ее сил не могут нас страшить. Естественна наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом, но неестественно уныние или отчаяние.
Итак, душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в Его земных явлениях: в правде, праведности и красоте. Когда-то давно, может быть еще в доисторические времена, был решен на Руси вопрос о правде и кривде, решен и запечатлен приговором в сказке: «Надо жить пo-Божьи... Что будет, то и будет, а кривдой жить не хочу».
И на этом решении Россия строилась и держалась в течение всей своей истории — от Киево-Печерской лавры до описанных у Лескова «праведников» и «инженеров-бессребреников»; от Сергия преподобного до унтер-офицера Фомы Данилова, замученного в 1875 году кипчаками за верность вере и Родине; от князя Якова Долгорукова, прямившего стойкой правдой Петру Великому, до умученного большевиками исповедника — митрополита Петербургского Вениамина.
Россия есть прежде всего живой сонм русских правдолюбцев, «прямых стоятелей», верных Божьей правде. Какою-то таинственной, могучей уверенностью они знали-ведали, что видимость земной неудачи не должна смущать прямую и верную душу; что делающий по-Божьи побеждает одним своим деланием, строит Россию одним своим (хотя бы и одиноким, и мученическим) стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался объять взором сонм этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства и никогда не поколеблется в своей вере в Россию.
Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему: «Побойся Бога!» — а укоряя, произносит слова: «Бога в тебе нет!». Ибо имеющий Бога в себе носит в своей душе живую любовь и живую совесть: две благороднейшие основы всякого жизненного служения — священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское; оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на Зерцале: «Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением». Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божие. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей: и тех, что сражались за Россию, и тех, что освобождали крестьян от крепостного права (на основах, не осуществленных нигде в мире, кроме России), и тех, что создавали русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода.
Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства, а русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу: вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти — и на одре болезни, и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева.
Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у Достоевского, который ответил безбожнику: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» Творческая государственность требует еще мудрости сердечной и вдохновенного созерцания, или, по слову митрополита Филарета, сказанному во время коронования императора Александра II, — она требует «наипаче таинственного осенения от Господня Духа владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совета и крепости».
Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и отпадения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам. Поэтому верить в Россию — значит принимать эти глубокие и великие традиции ее воли к качеству, ее своеобразия и служения, укореняться в них и уверенно строить на них ее возрождение.
И вот когда западные народы ставят нам вопрос, почему же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы знаем историю России, которой вы не знаете, и живем ее духом, который вам чужд и недоступен.
Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждое имеет свой особый вес и кои все вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности.
Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив одну шестую часть земной поверхности, и не только потому, что он создал правопорядок для ста шестидесяти различных племен — разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную гибкость и миролюбивую уживчивость, перед которой с таким радостным чувством преклонился однажды Лермонтов («Герой нашего времени», глава 1, «Бэла»), и не только потому, что он доказал свою великую духовную и национальную живучесть, подняв и пересилив 250-летнее иго татар;
— и не только потому, что он, незащищенный естественными границами, пройдя через века вооруженной борьбы, проведя в оборонительных войнах две трети своей жертвенной жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе средний уровень рождаемости: сорок семь человек в год на каждую тысячу населения;
— и не только потому, что он создал могучий и самобытный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколь к отвлеченному парению, — язык, о котором Гоголь сказал: «Что ни звук, то и подарок, и право, иное название еще драгоценнее самой вещи...» («Выбранные места из переписки с друзьями»);
— и не только потому, что он, создавая свою особую национальную культуру, доказал — и свою силу творить новое, и свой талант претворять чужое, и свою волю к качеству и совершенству, и свою даровитость, выдвигая из всех сословий «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов);
— и не только потому, что он выработал на протяжении веков свое особое русское правосознание (русский предреволюционный суд, труды российского Сената, русская юриспруденция, сочетающая в себе христианский дух с утонченным чувством справедливости и неформальным созерцанием права);
— и не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и мера, своеобразие и глубина которого доселе еще не оценены другими народами по достоинству — ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, ни в театре, ни в танце;
— и еще не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность — в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европейцев в его пределы — отойти в глубь своей страны, найти там все необходимое для обороны и для возвращения отнятого расчленителями и отстоять свое место под Божьим солнцем, свое национальное единство и независимость...
Мы верим в Россию не только по всем этим основаниям, но, конечно, мы находим опору и в них. За ними и через них сияет нам нечто большее: народ с такими дарами и с такой судьбой, выстрадавший и создавший такое, не может быть покинут Богом в трагический час своей истории. Он в действительности и не покинут Богом уже в силу одного того, что душа его искони укоренялась и укоренилась в молитвенном созерцании, в искании горнего, в служении высшему смыслу жизни. И если временно омрачилось око его, и если единожды поколебалась его сила, отличающая верное от соблазна, — то страдания очистят его взор и укрепят в нем его духовную мощь...
Мы верим в Россию потому, что созерцаем ее в Боге и видим ее такою, какой она была на самом деле. Не имея этой опоры, она не подняла бы своей суровой судьбы. Не имея этого живого источника, она не создала бы своей культуры. Не имея этого дара, она не получила бы и этого призвания. Знаем и разумеем, что для личной жизни человека — 25 лет есть срок долгий и тягостный. Но в жизни целого народа с тысячелетним прошлым этот срок «выпадения» или «провала» не имеет решающего значения: история свидетельствует о том, что на такие испытания и потрясения народы отвечают возвращением к своей духовной субстанции, восстановлением своего духовного акта, новым расцветом своих сил. Так будет и с русским народом. Пережитые испытания пробудят и укрепят его инстинкт самосохранения. Гонения на веру очистят его духовное око и его религиозность. Изжившиеся запасы зависти, злобы и раздорливости отойдут в прошлое. И восстанет новая Россия.
Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом, и, говоря о России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основание русской истории, русского национального бытия.О русском национализме
Когда мы смотрим вперёд и вдаль и видим грядущую Россию, то мы видим её как национальное государство, ограждающее и обслуживающее русскую национальную культуру. После длительного революционного перерыва, после мучительного коммунистически-интернационального провала (и пост-коммунистического разграбления и унижения) - Россия вернётся к свободному самоутверждению и самостоянию, найдёт свой здравый инстинкт самосохранения, примирит его со своим духовным самочувствием, и начнёт новый период своего исторического расцвета.
Десятилетиями терпит русский народ унижения; и, кажется, нет им конца и края. Десятилетиями попирают тёмные и преступные люди его алтари, запрещают ему молиться (откройте любое собрание молитв псевдо-патриаршей «церкви» и посмотрите: где в нём молитвы на «час беды и нашествия врагов»? Именно эти ежедневные молитвы убраны в компромиссе с антирусской властью - в угоду самому «отцу лжи»), избивают его лучших людей - самых верующих, самых стойких, самых храбрых и национально преданных, - подавляют его свободу, искажают его духовный лик, проматывают его достояние, разоряют его хозяйство, разлагают его государство, отучают его от свободного труда и свободного вдохновения… Десятилетиями обходятся с ним так, как если бы он был лишен национального достоинства, национального духа и национального инстинкта. Эти годы насилия и стыда не пройдут даром: нельзя народному организму «запретить здоровье», - он прорвётся к нему любой ценой; нельзя загасить в народе чувство собственного духовного достоинства, - эти попытки только пробудят его к новому осознанию и новой силе. То, что переживает сейчас русский народ, - есть строгий и долгий ученический искус, живая школа душевного очищения, смирения и трезвения. Первое пробуждение, может быть, будет страстным, неумеренным и даже ожесточённым; но дальнейшее принесёт нам новый русский национализм, с его истинной силой и в его истинной мере. Этот национализм мы и должны ныне выговорить и оформить.
В противоположность всякому интернационализму, - как сентиментальному, так и свирепому; в противовес всякой денационализации, бытовой и политической, мы утверждаем Русский Национализм, инстинктивный и духовный, исповедуем его и возводим его к Богу.
Мы приветствуем его возрождение. Мы радуемся его духовности и его своеобразию. И мы считаем драгоценным, чтобы Русские люди не связывали себя никакими интернационалистическими «симпатиями» и обязательствами.
Каждый народ имеет национальный инстинкт, данный ему от природы (а это значит - и от Бога), и дары Духа, изливаемые в него от Творца всяческих. И у каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. Этим Русским своеобразием мы должны дорожить, беречь его, жить в нём и творить из него: оно дано нам было искони, в зачатке, а раскрытие его было задано нам на протяжении всей нашей истории. Раскрывая его, осуществляя его, мы исполняем наше историческое предназначение, отречься от которого мы не имеем ни права, ни желания. Ибо всякое национальное своеобразие по-своему являет Дух Божий и по своему славит Господа.
Каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему лечится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему улыбается, шутит, смеётся и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и творит живопись; по-своему исследует, познаёт, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует… Он по-своему возносится духом и кается. По-своему организуется. У каждого народа своё особое чувство права и справедливости; иной характер; иная дисциплина; иное представление о нравственном идеале, иной семейный уклад, иная церковность, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом: у каждого народа иной, особый душевный уклад и духовно-творческий акт.
Так обстоит от природы и от истории. Так обстоит в инстинкте и в духе. Так нам всем дано от Бога. И это хорошо. Это прекрасно. Различные травы и цветы в поле. Различные деревья и облака. Богат и прекрасен сад Божий; обилен формами; блещет красками и видами; сияет и радует многообразием…
Всё хочет петь и славить Бога:
Заря, и ландыш, и ковыль,
И лес, и поле, и дорога,
И ветром зыблемая пыль.
(Ф. Сологуб).
И в этом все вещи, и все люди, и все народы - правы. И каждому народу подобает - и быть, и красоваться, и Бога славить по-своему. И в самом этом многообразии и многогласии уже поёт и возносится хвала Творцу; и надо быть духовно слепым и глухим, чтобы не постигать этого.
Вот почему мысль погасить это многообразие хвалений, упразднить это богатство исторического сада Божия, свести всё к мёртвому подобию и однообразию, к равенству песка, к безразличию после уже просиявшего в мире различия - может родиться только в духовно мёртвой, больной душе. Эта плоская и пошлая химера, эта всеразрушительная, противо-культурная и безбожная затея есть порождение рассудочной души, злой и завистливой, - всё равно, стремится ли эта химера воинственно подмять все народы под один народ (химера германского национал-социализма (перенятая у древнего иудаизма через многовековую школу католицизма)) или растворить все национальные культуры в бесцветности и безвидности всесмешения (химера советского коммунизма). Во всяком случае, эта уродливая химера, в которой крайний национализм сходится с крайним интернационализмом, - нерусского происхождения, как, впрочем, и весь нигилизм, и нехристианского происхождения, как, впрочем, и весь эгалитаризм.
Христианство принесло миру идею личной, бессмертной души, самостоятельной по своему дару, по своей ответственности и по своему призванию, особливой в своих грехах и подвигах, и самодеятельной в созерцании, любви и молитве, - т.е. идею метафизического своеобразия человека. И поэтому идея метафизического своеобразия народа есть лишь верное и последовательное развитие христианского понимания; Христос Спаситель один во вселенной, Он не для иудеев только, и не для Эллинов только, а благовестие его идёт и к Эллинам и к иудеям; но это означает, что признаны и призваны все народы, каждый на своём месте, со своим языком и со своими дарами (сравни Деяния 2, 1-42; 1 Коринф., 1-31).
Преподобный Серафим Саровский высказал однажды воззрение, что Бог печётся о каждом человеке так, как если бы он был у Него единственным. Это сказано о личном человеке. Что же надлежит думать об индивидуальном народе, - что он Богом осуждён, отвергнут и обречён? Каждую лилию Господь одевает в особливые и прекрасные ризы, каждую птицу небесную питает и кормит, и волосы, падающие с головы человека, сосчитывает, а своеобразие народной жизни, от Него данное и заданное, творческую хвалу живой нации, к Нему восходящую, - отвергает?!…
Всей своей историей, всей культурой, всем трудом и пением своим каждый народ служит Богу, как умеет; и те народы, которые служат ему творчески и вдохновенно, становятся Великими и духовно ведущими народами в истории.
И вот, национализм есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Святого; что он приял их своим инстинктивным чувствилищем и творчески претворил их по-своему; что сила его обильна и призвана к дальнейшим творческим свершениям; и что поэтому народу подобает культурное «само-стояние», как залог величия (Пушкин), и как независимость государственного бытия.
Поэтому национализм проявляется, прежде всего, в инстинкте национального самосохранения; и этот инстинкт есть состояние верное и оправданное. Не стоит стыдиться его, гасить или глушить его; надо осмысливать его перед лицом Божиим, духовно обосновывать и облагораживать его проявления. Этот инстинкт должен не дремать в душе народа, а бодрствовать. Он живёт совсем не «по ту сторону добра и зла», напротив, он подчинён законам добра и духа. Он должен иметь свои проявления в любви, жертвенности, храбрости и мудрости; он должен иметь свои празднества, свои радости, свои печали и свои моления. Из него должно родиться Национальное единение, во всей его инстинктивной «пчелиности» и «муравьиности». Он должен гореть в национальной культуре и в творчестве национального гения.
Что такое есть национализм?
Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всём его своеобразии. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвёл в Божьем саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры и из этого созерцания.
Вот почему национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ - к духовному расцвету. Это есть некий восторг (любимое выражение Суворова!) от созерцания своего народа в плане Божием и в дарах Его Благодати. Это есть благодарение Богу за эти дары; но в то же время и скорбь о своём народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров. В национальном чувстве скрыт источник достоинства, которое Карамзин обозначил когда-то, как «народную гордость»; - и источник единения, которое спасло Россию во все трудные часы её истории; и источник государственного правосознания, связующего «всех нас» в живое государственное единство.
Национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь своего народа, как драгоценную духовную самосиянность. Он принимает дары и создания своего народа, как свою собственную духовную почву, как отправной пункт своего собственного творчества. И он прав в этом. Ибо творческий акт не изобретается каждым человеком для себя, но выстрадывается и вынашивается целым народом на протяжении веков. Душевный уклад труда и быта, и духовный уклад любви и созерцания, молитвы и познания, - при всём его личном своеобразии, имеет ещё и национальную природу, национальную однородность и национальное своеобразие. Согласно общему социально-психологическому закону, подобие единит людей, объединение усиливает это подобие, и радость быть понятым раскрывает души и углубляет общение. Вот почему национальный творческий акт роднит людей между собой и пробуждает в них желание раскрыться, высказаться, отдать «своё заветное» и найти отклик в других. Творческий человек творит всегда от имени своего народа и обращается прежде всего больше всего к своему народу. Народность есть как бы климат души и почва духа; а национализм есть верная естественная тяга к своему климату и к своей почве.
Не случайно русская сердечность и простота обхождения всегда сжималась и страдала от черствости, чопорности и искусственной натянутости Запада. Не случайно и то, русская созерцательность и искренность никогда не ценились европейским рассудком и американской деловитостью. С каким трудом европеец улавливает особенности нашего правосознания - его неформальность, его свободу от мёртвого законничества, его живую тягу к живой справедливости и в тоже время его наивную недисциплинированность в бытовых основах и его тягу к анархии. С каким трудом прислушивается он к нашей музыке - к её свободно льющейся и неисчерпывающейся мелодии, к её дерзновенным ритмам, к ни на что не похожим тональностям и гармониям русской народной песни… Как чужда ему наша не рассудочная, созерцательная наука… А русская живопись, - чудеснейшая и значительнейшая, наряду с итальянской, - доселе ещё «не открыта» и не признана снобирующим европейцем… Всё прекрасное, что было доселе сделано русским народом, исходило из его национального духовного акта и представлялось чуждым Западу.
А между тем, создать нечто прекрасное, совершенное для всех народов - может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа. «Мировой гений» есть всегда и прежде всего - «национальный гений», и всякая попытка создать нечто великое из денационализированной или «интернациональной» души даёт в лучшем случае только мнимую, «экранную» «знаменитость». Истинное величие всегда почвенно. Подлинный гений всегда национален: и он знает это сам о себе.
И если пророки не принимаются в своём отечестве, то не потому, что они творят из какого-то «сверхнационального» акта, а потому, что они углубляют творческий акт своего народа до того уровня, до той глубины, которая ещё не доступна их единоплеменным современникам. Пророк и гений - национальнее своего поколения, в высшем и лучшем значении этого слова. Пребывая в своеобразии своего народа, они осуществляют национальный акт классической глубины и зрелости, и тем показывают своему народу его подлинную силу, его призвание и грядущие пути.
Итак, национализм есть здоровое и оправданное настроение души. То, что национализм любит и чему он служит, - в самом деле достойно любви, борьбы и жертв. И грядущая Россия будет национальной Россией.Опасности и задания русского национализма
Все то, что я высказал в оправдание и обоснование национализма, заставляет меня договорить и признать, что есть больные и извращенные формы национального чувства и национальной политики. Эти извращенные формы могут быть сведены к двум главным типам: в первом случае национальное чувство прилепляется к неглавному в жизни и культуре своего народа; во втором случае оно превращает утверждение своей культуры в отрицание чужой. Сочетание и сплетение этих ошибок может порождать самые различные виды больного национализма.
Первая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста прикрепляются не к духу и не к духовной культуре его народа, а к внешним проявлениям народной жизни — к хозяйству, к политической мощи, к размерам государственной территории и к завоевательным успехам своего народа. Главное — жизнь духа — не ценится и не бережется, оставаясь совсем в пренебрежении или являясь средством для неглавного, т. е. превращаясь в орудие хозяйства, политики или завоеваний. Согласно этому есть государства, националисты которых удовлетворяются успехами своего народного хозяйства (экономизм), или мощью и блеском своей государственной организации (этатизм), или же завоеваниями своей армии (империализм). Тогда национализм отрывается от главного — от смысла и цели народной жизни — и становится чисто инстинктивным настроением, подвергаясь всем опасностям обнаженного инстинкта: жадности, безмерной гордыне, ожесточению и свирепости. Он опьяняется всеми земными соблазнами и может извратиться до конца.
От этой ошибки русский народ был огражден, во-первых, своим прирожденным религиозным смыслом; во-вторых, Православием, которое сообщило нам, по слову Пушкина, «особенный национальный характер» и внушило нам идею «Святой Руси». «Святая Русь» не есть «нравственно праведная» или «совершенная в своей добродетели». Россия — это есть правоверная Россия, признающая свою веру главным делом и отличительной особенностью своего земного естества. В течение веков Православие считалось отличительной чертой русскости — в борьбе с татарами, латинянами и другими иноверцами; в течение веков русский народ осмысливал свое бытие не хозяйством, не государством и не войнами, а верою и ее содержанием; и русские войны велись в ограждение нашей духовной и вероисповедной самобытности и свободы. Так было издревле — до конца XIX века включительно. Поэтому русское национальное самосознание не впадало в соблазны экономизма, этатизма и империализма, и русскому народу никогда не казалось, что главное дело его — это успех его хозяйства, его государственной власти и его оружия.
Вторая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста, вместо того чтобы идти в глубину своего духовного достояния, уходят в отвращение и презрение ко всему иноземному. Суждение «мое национальное бытие оправдано перед лицом Божиим» превращается, вопреки всем законам жизни и логики, в нелепое утверждение: «национальное бытие других народов не имеет перед моим лицом никаких оправданий»... Так как если бы одобрение одного цветка давало основание осуждать все остальные, или — любовь к своей матери заставляла ненавидеть и презирать всех других матерей. Эта ошибка имеет, впрочем, совсем не логическую природу, а психологическую и духовную: тут и наивная исключительность примитивной натуры, и этнически врожденное самодовольство, и жадность, и похоть власти, и узость провинциального горизонта, и отсутствие юмора, и, конечно, неодухотворенность национального инстинкта. Народы с таким национализмом очень легко впадают в манию величия и в своеобразное завоевательное буйство, как бы ни называть его — шовинизмом, империализмом или как-нибудь иначе.
От этой ошибки русский народ был огражден, во-первых, присущею ему простодушною скромностью и природным юмором; во-вторых, многоплеменным составом России и, в-третьих, делом Петра Великого, научившего нас строгому суду над собою и привившего нам готовность учиться у других народов.
Так, русскому народу несвойственно закрывать себе глаза на свои несовершенства, слабости и пороки; напротив, его скорее тянет к мнительно-покаянному преувеличению своих грехов. А природный юмор его никогда не позволял ему возомнить себя первым и водительным народом мира. В течение всей его истории он вынужден был обходиться с другими племенами, говорившими на непонятных ему языках, отстаивавшими свою веру и свой быт, а иногда наносившими ему тяжелые поражения. Наша история вела нас от варягов и греков к половцам и татарам; от хазар и волжских болгар через финские племена к шведам, немцам, литовцам и полякам. Татары, наложившие на нас свое долгое иго, показались нам «нехристями» и «погаными» (запах лошадиного пота, поглощаемого сырого мяса и кочевнической грязи, исходивший от татар, вызывал у славян сущее отвращение), но они почтили нашу Церковь, и вражда наша к ним не превратилась в презрение. Воевавшие с нами иноверцы, немые для нас по языку («немцы») и неприемлемые Церковью («еретики»), побеждались нами отнюдь не легко и, нанося нам поражения, заставляли нас задуматься над их преимуществами. Русский национализм проходил — и во внутреннем замирении своей страны, и во внешних войнах — суровую школу уважения к врагам, и Петр Великий, умевший «поднимать заздравный кубок» «за учителей своих», проявлял в этом исконную русскую черту — уважение к врагу и смирение в победе.
Правда, в допетровском национализме имелись черты, которые могли привести к развитию национальной гордыни и повредить России в целом. Именно в русском народе сложилось и крепло иррациональное самочувствие, согласно которому русский народ, наставляемый святой, соборной и апостольской Церковью и водимый своими благоверными царями, хранит единственную правую веру, определяя ею свое сознание и свой быт: это есть некое национальное стояние в правде, от которого невозможно ни отступить, ни что-либо уступить, так что перенимать у других нам ничего нельзя, смешиваться с другими грешно и изменяться нам не в чем. Ни у басурман, ни у еретиков нам не следует учиться, ибо от ложной веры может произойти только ложная наука и ложное умение.
Это воззрение к XVII веку формулировалось так: «Богомерзок пред Богом всякий, кто любит геометрию, а се душевные грехи — учиться астрономии и еллинским книгам»... И еще: «Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех, учуся книгам благодатного закона»...
Русское правительственное самознание давно уже не соответствовало этому народному самочувствию. Со второй половины XV века, если не ранее, в особенности же после того, как обрушились от самодельной неумелой стройки стены почти довершенного Успенского собора в Москве (1474), с легкой руки Иоанна Третьего русское правительство приглашает из-за границы архитекторов, врачей и всяких технических искусников: «еретическая наука» уже гостит и служит, но еще не насаждается и не перенимается. Борис Годунов мечтал основать в Москве не то академию, не то университет; Лжедмитрий думал водворить здесь иезуитскую высшую школу. Необходимость учиться светской «еретической» науке становилась все более очевидной, но консерватизм и провинциализм церковно-национального самочувствия и самомнения санкционировали неподвижность быта и сознания. Духовная инерция народа стала опасною...
* * *
Петру Великому пришлось вломиться в это самочувствие и заставить русских людей учиться необходимому. Он понял, что народ, отставший в цивилизации, в технике и знаниях, будет завоеван и порабощен и не отстоит себя и свою правую веру. Он понял, что необходимо отличить главное и священное от неглавного, несвященного, земного — от техники, хозяйства и внешнего быта; что надо вернуть земное земле; что вера Христова не узаконивает отсталых форм хозяйства, быта и государственности. Он постиг необходимость дать русскому сознанию свободу светского, исследовательского взирания на мир, с тем чтобы сила русской веры установила в дальнейшем новый синтез между православным христианством, с одной стороны, и светской цивилизацией и культурой, с другой стороны. Петр Великий понял, что русский народ преувеличил компетенцию своего исторически сложившегося, но еще не раскрывшего всю свою силу религиозного акта и что он недооценил творческую силу христианства: Православие не может санкционировать такой уклад сознания, такой строй и быт, которые погубят народную самостоятельность и предадут врагам и веру, и Церковь. Он извлек урок из татарского ига и из войн с немцами, шведами и поляками: Запад бил нас нашей отсталостью, а мы считали, что наша отсталость есть нечто правоверное, православное и священно-обязательное. Он был уверен, что Православие не может и не должно делать себе догмат из необразованности и из форм внешнего быта, что сильная и живая вера проработает и осмыслит и облагородит новые формы сознания, быта и хозяйства. Христианство не может и не должно быть источником обскурантизма и национальной слабости.
И вот небесное и земное разделились в русском самочувствии. Вместе с тем национальное отделилось от вероисповедно-церковного. Русское самочувствие проснулось, и началась эпоха русского национального самосознания, незаконченная и доныне.
Старообрядцы не приняли этого раздела и стали верными хранителями русского православно-национального самочувствия во всей его неприкосновенности, наивности и притязательности. Это было трогательно и даже полезно; не потому, что старообрядчество в церковном отношении — право, а потому, что оно веками, в душевной целостности и с нравственной ревностью блюло верность первоначальной форме русского религиозного и русско-национального самочувствия. Верность бывает трогательна и полезна даже и в обрядовых мелочах, ибо в них воплощаются глубина и искренность религиозного чувства.
А между тем России, русскому духу и русскому национализму предстоял новый путь. Надо было различить в культурном творчестве церковное и религиозное, и далее — церковное и национальное; открыть себе доступ к светской цивилизации и светской культуре и внести религиозно-православный дух, иоанновский дух любви и свободы, в свое светское национальное самосознание, в свою новую национально-светскую культуру и национально-светскую цивилизацию. Эта задача не разрешена нами еще и поныне, и разрешением ее будет занята грядущая Россия.
1. Церковь и религиозность не одно и то же, ибо Церковь можно уподобить солнцу, а религиозность — всюду рассеиваемым солнечным лучам. Церковь есть зиждительница, хранительница, живое средоточие религии и веры. Но Церковь не есть «все во всем», она не поглощает нации, государства, науки, искусства, хозяйства, семьи и быта, не может поглотить их и не должна пытаться сделать это. Церковь не есть начало тоталитарное и всевластное. Православию чужд «теоретический» (т. е., строго говоря, экклезиастический) идеал; Православная Церковь молится, учит, святит, благодарствует, вдохновляет, исповедует и, если надо, обличает, — но она не властвует, не регламентирует жизни, не карает светскими наказаниями и не берет на себя ответственности за светские дела, грехи, ошибки и неудачи (в политике, в хозяйстве, в науке и во всей культуре народа). Ее авторитет есть авторитет откровения и любви; он свободен и основан на качестве ее веры, ее молитвы, ее учения и ее дел. Церковь ведет духом, молитвой и качеством, но не всепоглощением, как это пытались осуществить Савонаролла во Франции, иезуиты в Парагвае и Кальвин в Женеве. Она излучает живую религиозность, которая должна свободно проникать в жизнь и во все жизненные дела народа. Религиозному духу — везде место, где живет и творит человек, во всяком светском деле: в искусстве и науке, в государстве и торговле, в семье и на пашне. Он очищает и осмысливает все чувства человека, и в том числе и национальное чувство; а национальное чувство, религиозно облагороженное и осмысленное, незримо и ненарочито проникает все человеческое творчество.
Так, Церковь не может и не должна вооружать армию, организовывать полицию, разведку и дипломатию, строить государственный бюджет, руководить академическими исследованиями, заведовать концертами и театрами и т. д.; но излучаемый ею религиозный дух может и должен облагораживать и очищать всю эту светскую деятельность людей. Живая религиозность должна светить и греть там, куда Церковь открыто не вмешивается или откуда она прямо устраняет себя.
2. Церковь, как единение единоверующих, сверхнациональна, ибо объемлет и единоверующих другой нации; но в пределах единой нации «поместная» церковная организация получает неизбежно национальные черты. К Православной Церкви принадлежат не только русские, но и румыны, и греки, и сербы, и болгары; и тем не менее русское Православие (как Церковь, и как обряд, и как дух) имеет своеобразные черты русскости. Итак, церковное и национальное не одно и то же.
Нация, как единение людей с единым национальным актом и культурою, не определяется принадлежностью к единой Церкви, но включает в себя людей разной веры, и разных исповеданий, и разных Церквей. И тем не менее русский национальный акт и дух был взращен в лоне Православия и исторически определился его духом, на что и указывал Пушкин. К этому русскому национальному акту более или менее приобщились почти все народы России самых различных вер и исповеданий:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.
Александр Пушкин
И все они, сами того не зная, таинственно приобщились к дарам русского Православия, сокровенно заложенным в русском национальном акте. Русский национализм распространил скрытые в нем лучи русского Православия по всей России. Но из этого уже ясно, что национальное и церковное — не одно и то же.
Это отличие — церковного от религиозного и церковного от национального — Россия осознавала на протяжении двух веков после Петра. За эти два века Россия вынашивала свой светский национализм, зачатый в Православной Церкви и проникнутый христианским иоанновским духом любви, созерцания и свободы; она вынашивала его и в то же время вносила его во все области светской культуры: в зародившуюся с тех пор русскую светскую науку и литературу; в возникшее и быстро созревшее до мировой значительности светское русское искусство; в новый светский уклад права, правосознания, правопорядка и государственности; в новый уклад русской светской жизни и нравственности; в новый уклад русского частного и общественного хозяйства.
Православная Церковь отнюдь не была чужда всему этому. Она оставалась как бы матерью выросших детей, ушедших на свободу жизненно-религиозного дела и труда, но не ушедших духом из ее света и Духа. Она оставалась матерью-хранительницей молитвы и любви, советницей и обличительницей, лоном очищения, покаяния и умудрения, — вечной матерью, приемлющей новорожденного и молящейся за почившего. Это ее дух — освободил крестьян, создал суд скорый, правый и милостливый, создал русское земство и русскую школу; это ее дух — взрастил и укрепил русскую национальную совесть и жертвенность; это ее дух — повинил и укрепил русскую мечту о совершенстве; это ее дух — внес во всю русскую культуру силу сердечного созерцания, вдохновил русскую поэзию, живопись, музыку и архитектуру и создал пироговскую традицию в русской медицине... Но всего не исчислишь.
И тем не менее, то, что создавалось в России в XVIII и XIX веках, — было именно светскою национальною культурою. России было дано великое задание — выработать русско-национальный творческий акт, верный историческим корням славянства и религиозному духу русского Православия, — «имперский» акт такой глубины, ширины и гибкости, чтобы все народы России могли найти в нем свое родовое лоно, свое оплодотворение и водительное научение; создать из этого акта новую, русско-национальную, светски свободную культуру (знания, искусства, нравственности, семьи, права, государства и хозяйства) — все это в духе восточного, иоанновского христианства (любви, созерцания и свободы); и наконец, узреть и выговорить русскую национальную идею, ведущую Россию через пространства истории.
Это задание — долгое и претрудное, разрешимое только в веках — вдохновением и молитвою, самовоспитанием и неотступным трудом. За два века русский народ только приступил к его разрешению, и то, что им совершено, свидетельствует не только о величии этого задания и не только о чрезвычайной, исторически, этнически и пространственно обусловленной сложности его, но и о тех силах и дарах, которые даны ему для этого от Провидения. Это дело было начато с чрезвычайным успехом, прервано политической смутой и коммунистической революцией и осталось ныне незавершенным. Чтобы завершить это дело, понадобятся еще века свободного творческого расцвета, и нет сомнения, что Россия возобновит его после окончания революции.
И вот русский национализм есть не что иное, как любовь к этому исторически сложившемуся духовному облику и акту русского народа; он есть вера в это наше призвание и в данные нам силы; он есть воля к нашему расцвету; он есть созерцание нашей истории; нашего исторического задания и наших путей, ведущих к этой цели; он есть бодрая и неутомимая работа, посвященная этому самобытному величию грядущей России. Он утверждает свое и творит новое, но отнюдь не отрицает и не презирает чужое. И Дух его есть дух иоанновского христианства, христианства любви, созерцания и свободы, а не дух ненависти, зависти и завоевания.
Так определяется идея русского национализма.О русской идее
Если нашему поколению выпало на долю жить в наиболее трудную и опасную эпоху русской истории, то это не может и не должно колебать наше разумение, нашу волю и наше служение России. Борьба Русского народа за свободу и достойную жизнь на земле — продолжается. И ныне нам более чем когда-либо подобает верить в Россию, видеть ее духовную силу и своеобразие и выговаривать за нее, от ее лица и для ее будущих поколений ее творческую идею.
Эту творческую идею нам не у кого и не для чего заимствовать: она может быть только русскою, национальною. Она должна выражать русское историческое своеобразие и в то же время — русское историческое призвание. Эта идея формулирует то, что русскому народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божиим и самобытен среди всех других народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь; это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия во всем: в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать: так было, и когда так бывало, что осуществлялось прекрасное; и так будет, и чем полнее и сильнее, это будет осуществляться, тем будет лучше...
В чем же сущность этой идеи?
Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно и передающего свое видение воле для действия и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, зависти и вражды.
1. Итак, русская идея есть идея сердца.
Она утверждает, что главное в жизни есть любовь, и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянская душа, издревле и органически предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства: она отозвалась сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь Божию, и уверовала, что «Бог есть Любовь». Русское Православие есть христианство не столько от Павла, сколько от Иоанна, Иакова и Петра. Оно воспринимает Бога не воображением, которому нужны страхи и чудеса для того, чтобы испугаться и преклониться перед "силою" (первобытные религии); не жадною и властною земною волею, которая в лучшем случае догматически принимает моральное правило, повинуется закону и сама требует повиновения от других (иудаизм и католицизм), не мыслью, которая ищет понимания и толкования и затем склонна отвергать то, что ей кажется непонятным (протестантство). Русское Православие воспринимает Бога любовью, воссылает Ему молитву любви и обращается с любовью к миру и к людям. Этот дух определил собою акт православной веры, православное богослужение, наши церковные песнопения и церковную архитектуру. Русский народ принял христианство не от меча, не по расчету, не страхом и не умственностью, а чувством, добротою, совестью и сердечным созерцанием. Когда русский человек верует, то он верует не волею и не умом, а огнем сердца. Когда его вера созерцает, то она не предается соблазнительным галлюцинациям, а стремится увидеть подлинное совершенство. Когда его вера желает, то она желает не власти над вселенною (под предлогом своего правоверия), а совершенного качества. В этом корень русской идеи. В этом ее творческая сила на века.
И все это не идеализация и не миф, а живая сила русской души и русской истории. О доброте, ласковости и гостеприимстве, а также и о свободолюбии русских славян свидетельствуют единогласно древние источники — и византийские, и арабские. Русская народная сказка вся проникнута певучим добродушием. Русская песня есть прямое излияние сердечного чувства во всех его видоизменениях. Русский танец есть импровизация, проистекающая из переполненного чувства. Первые исторические русские князья суть герои сердца и совести (Владимир, Ярослав, Мономах). Первый русский святой (Феодосии) — есть явление сущей доброты. Духом сердечного и совестного созерцания проникнуты русские летописи и наставительные сочинения. Этот дух живет в русской поэзии и литературе, в русской живописи и в русской музыке. История русского правосознания свидетельствует о постепенном проникновении его этим духом, духом братского сочувствия и индивидуализирующей справедливости. А русская медицинская школа есть его прямое порождение (диагностические интуиции живой страдающей личности).
Итак, любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви русский человек есть неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) — сами по себе ему мало свойственны. Без любви — он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верою.
2. И при всем том, первое проявление русской любви и русской веры есть живое созерцание.
Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, наша природа с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша созерцающая «лень» (Пушкин), за которой скрывается сила творческого воображения. Русскому созерцанию давалась красота, пленявшая сердце, и эта красота вносилась во все — от ткани и кружева до жилищных и крепостных строений. От этого души становились нежнее, утонченнее и глубже; созерцание вносилось и во внутреннюю культуру — в веру, в молитву, в искусство, в науку и в философию. Русскому человеку присуща потребность увидеть любимое вживе и въяве и потом выразить увиденное — поступком, песней, рисунком или словом. Вот почему в основе всей русской культуры лежит живая очевидность сердца, а русское искусство всегда было — чувственным изображением нечувственно узренных обстояний. Именно эта живая очевидность сердца лежит и в основе русского исторического монархизма. Россия росла и выросла в форме монархии не потому, что русский человек тяготел к зависимости или к политическому рабству, как думают многие на западе, но потому, что государство в его понимании должно быть художественно и религиозно воплощено в едином лице, — живом, созерцаемом, беззаветно любимом и всенародно «созидаемом» и укрепляемом этой всеобщей любовью.
3. Но сердце и созерцание дышат свободно. Они требуют свободы, и творчество их без нее угасает. Сердцу нельзя приказывать любить, его можно только зажечь любовью. Созерцанию нельзя предписать, что ему надо видеть и что оно должно творить. Дух человека есть бытие личное, органическое и самодеятельное: он любит и творит сам, согласно своим внутренним необходимостям. Этому соответствовало исконное славянское свободолюбие и русско-славянская приверженность к национально-религиозному своеобразию. Этому соответствовала и православная концепция Христианства: не формальная, не законническая, не морализирующая» но освобождающая человека к живой любви и к живому совестному созерцанию. Этому соответствовала и древняя русская (и церковная, и государственная) терпимость ко всякому иноверию и ко всякой иноплеменности, открывшая России пути к имперскому (не «империалистическому») пониманию своих задач (см. замечательную статью проф. Розова: «Христианская свобода и Древняя Русь» в № 10 ежегодника «День русской славы», 1940, Белград).
Русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той органической естественности и простоте, в той импровизаторской легкости и непринужденности, которая отличает восточного славянина от западных народов вообще и даже от некоторых западных славян. Эта внутренняя свобода чувствуется у нас во всем: в медлительной плавности и певучести русской речи, в русской походке и жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском быту. Русский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел к просторной нестесненности. Природная темпераментность души влекла русского человека к прямодушию и открытости (Святославово «иду на вы»...), превращала его страстность в искренность и возводила эту искренность к исповедничеству и мученичеству...
Еще при первом вторжении татар русский человек предпочитал смерть рабству и умел бороться до последнего. Таким он оставался и на протяжении всей своей истории. И не случайно, что за войну 1914-1917 гг. из 1400000 русских пленных в Германии 260000 человек (18,5%) пытались вбежать из плена. «Такого процента попыток не дала ни одна нация» (Н.Н. Головин). И если мы, учитывая это органическое свободолюбие русского народа, окинем мысленным взором его историю с ее бесконечными войнами и длительным закрепощением, то мы должны будем не возмутиться сравнительно редкими (хотя и жестокими) русскими бунтами, а преклониться перед той силою государственного инстинкта, духовной лояльности и христианского терпения, которую русский народ обнаруживал на протяжении всей своей истории.
Итак, русская идея есть идея свободно созерцающего сердца. Однако это созерцание призвано быть не только свободным, но и предметным. Ибо свобода, принципиально говоря, дается человеку не для саморазнуздания, а для органически-творческого самооформления, не для беспредметного блуждания и произволения, а для самостоятельного нахождения предмета и пребывания в нем. Только так возникает и зреет духовная культура. Именно в этом она и состоит.
Вся жизнь русского народа могла бы быть выражена и изображена так: свободно созерцающее сердце искало и находило свой верный и достойный Предмет. По-своему находило его сердце юродивого, по-своему — сердце странника и паломника; по-своему предавалось религиозному предметовидению русское отшельничество и старчество; по-своему держалось за священные традиции Православия русское старообрядчество; по-своему, совершенно по-особому вынашивала свои славные традиции русская армия; по-своему же несло тягловое служение русское крестьянство и по-своему же вынашивало русское боярство традиции русской православной государственности; по-своему утверждали свое предметное видение те русские праведники, которыми держалась русская земля, и облики коих художественно показал Н.С. Лесков. Вся история русских войн есть история самоотверженного предметного служения Богу, Царю и отечеству; а, напр., русское казачество сначала искало свободы, а потом уже научилось предметному государственному патриотизму. Россия всегда строилась духом свободы и предметности и всегда шаталась и распадалась, как только этот дух ослабевал, — как только свобода извращалась в произвол и посягание, в самодурство и насилие, как только созерцающее сердце русского человека прилеплялось к беспредметным или противопредметным содержаниям...
Такова русская идея: свободно и предметно созерцающая любовь и определяющаяся этим жизнь и культура. Там, где русский человек жил и творил из этого акта, — он духовно осуществлял свое национальное своеобразие и производил свои лучшие создания во всем: в праве и в государстве, в одинокой молитве и в общественной организации, в искусстве и в науке, в хозяйстве и в семейном быту, в церковном алтаре и на царском престоле. Божий дары — история и природа — сделали русского человека именно таким. В этом нет его заслуги, но этим определяется его драгоценная самобытность в сонме других народов. Этим определяется и задача русского народа: быть таким со всей возможной полнотой и творческой силой, блюсти свою духовную природу, не соблазняться чужими укладами, не искажать своего духовного лица искусственно пересаживаемыми чертами и творить свою жизнь и культуру именно этим духовным актом.
Исходя из русского уклада души, нам следует помнить одно и заботиться об одном: как бы нам наполнить данное нам свободное и любовное созерцание настоящим предметным содержанием; как бы нам верно воспринять и выразить Божественное — по-своему; как бы нам петь Божьи песни и растить на наших полях Божьи цветы... Мы призваны не заимствовать у других народов, а творить свое по-своему; но так, чтобы это наше и по-нашему созданное было на самом деле верно и прекрасно, т. е. предметно.
Итак, мы не призваны заимствовать духовную культуру у других народов или подражать им. Мы призваны творить свое и по-своему: русское по-русски.
У других народов был издревле другой характер и другой творческий уклад: свой особый — у иудеев, свой особый — у греков, особливый у римлян, иной у германцев, иной у галлов, иной у англичан. У них другая вера, другая «кровь в жилах», другая наследственность, другая природа, другая история. У них свои достоинства и свои недостатки. Кто из нас захочет заимствовать их недостатки? Никто. А достоинства нам даны и заданы наши собственные. И когда мы сумеем преодолеть свои национальные недостатки, — совестью, молитвою, трудом и воспитанием, — тогда наши достоинства расцветут так, что о чужих никто из нас не захочет и помышлять.
Так, например, все попытки заимствовать у католиков их волевую и умственную культуру — были бы для нас безнадежны. Их культура выросла исторически из преобладания воли над сердцем, анализа над созерцанием, рассудка во всей его практической трезвости над совестью, власти и принуждения над свободою. Как же мы могли бы заимствовать у них эту культуру, если у нас соотношение этих сил является обратным? Ведь нам пришлось бы погасить в себе силы сердца, созерцания, совести и свободы или, во всяком случае, отказаться от их преобладания. И неужели есть наивные люди, воображающие, что мы могли бы достигнуть этого, заглушив в себе славянство, искоренив в себе вековечное воздействие нашей природы и истории, подавив в себе наше органическое свободолюбие, извергнув из себя естественную православность души и непосредственную — искренность духа? И для чего? Для того чтобы искусственно привить себе чуждый нам дух иудаизма, пропитывающий католическую культуру, и далее — дух римского права, дух умственного и волевого формализма и, наконец, дух мировой власти, столь характерный для католиков?.. А в сущности говоря, для того чтобы отказаться от собственной, исторически и религиозно заданной нам культуры духа, воли и ума: ибо нам не предстоит в будущем пребывать исключительно в жизни сердца, созерцания и свободы и обходиться без воли, без мысли, без жизненной формы, без дисциплины и без организации. Напротив, нам предстоит вырастить из свободного сердечного созерцания — свою особую, новую русскую культуру воли, мысли и организации. Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями. Мало того, — за нею стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели... И все это выговаривается русской идеей.
Эта русская идея созерцающей любви и свободной предметности — сама по себе не судит и не осуждает инородные культуры. Она только не предпочитает их и не вменяет их себе в закон. Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот народ, который не видит того, что дано именно ему, и потому ходит побираться под чужими окнами. Россия имеет свои духовно-исторические дары и призвана творить свою особую духовную культуру: культуру сердца, созерцания, свободы и предметности: Нет единой общеобязательной «западной культуры», перед которой все остальное — «темнота» или «варварство». Запад нам не указ и не тюрьма. Его культура не есть идеал совершенства. Строение его духовного акта (или, вернее, — его духовных актов), может быть, и соответствует его способностям и его потребностям, но нашим силам, нашим заданиям, нашему историческому призванию и душевному укладу оно не соответствует и не удовлетворяет. И нам незачем гнаться за ним и делать себе из него образец. У запада свои заблуждения, недуги, слабости и опасности. Нам нет спасения в западничестве. У нас свои пути и свои задачи. И в этом — смысл русской идеи.
Однако это не гордость и не самопревознесение. Ибо, желая идти своими путями, мы отнюдь не утверждаем, будто мы ушли на этих путях очень далеко или будто мы всех опередили. Подобно этому мы совсем не утверждаем, будто все, что в России происходит и создаётся, — совершенно, будто русский характер не имеет своих недостатков, будто наша культура свободна от заблуждений, опасностей, недугов и соблазнов. В действительности мы утверждаем иное: хороши мы в данный момент нашей истории или плохи, мы призваны и обязаны идти своим путем, — очищать свое сердце, укреплять свое созерцание, осуществлять свою свободу и воспитывать себя к предметности. Как бы ни были велики наши исторические несчастья и крушения, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, русских содержаний и русской формы, а не ходить «в кусочки», собирая на мнимую бедность. Мы западу не ученики и не учителя. Мы ученики Бога и учителя себе самим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру — из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом — смысл русской идеи.
Эту национальную задачу нашу мы должны верно понять, не искажая ее и не преувеличивая. Мы должны, заботиться не об оригинальности нашей, а о предметности нашей души и нашей культуры; оригинальность же "приложится" сама, расцветая непреднамеренно и непосредственно. Дело совсем не в том, чтобы быть ни на кого не похожим; требование «будь как никто» неверно, нелепо и не осуществимо. Чтобы расти и цвести, не надо коситься на других, стараясь ни в чем не подражать им и ничему не учиться у них. Нам надо не отталкиваться от других народов, а уходить в собственную глубину и восходить из нее к Богу; надо не оригинальничать, а добиваться Божьей правды; надо не предаваться восточнославянской мании величия, а искать русскою душою предметного служения. И в этом смысл русской идеи.
Вот почему так важно представить себе наше национальное призвание со всей возможной живостью и конкретностью. Если русская духовная культура исходит из сердца, созерцания, свободы и совести, то это отнюдь не означает, что она "отрицает" волю, мысль, форму и организацию. Самобытность русского народа совсем не в том, чтобы пребывать в безволии и безмыслии, наслаждаться бесформенностью и прозябать в хаосе; но в том, чтобы выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести). Самобытность русской души и русской культуры выражается именно в этом распределении ее сил на первичные и вторичные: первичные силы определяют и ведут, а вторичные вырастают из них и приемлют от них свой закон. Так уже было в истории России. И это было верно и прекрасно. Так должно быть и впредь, но еще лучше, полнее и совершеннее.
1. Согласно этому — русская религиозность должна по-прежнему утверждаться на сердечном созерцании и свободе и всегда блюсти свой совестный акт. Русское Православие должно чтить и охранять свободу веры — и своей, и чужой. Оно должно созидать на основе сердечного созерцания свое особое православное богословие, свободное от рассудочного, формального, мертвенного, скептически слепого резонерства западных богословов; оно не должно перенимать моральную казуистику и моральный педантизм у Запада, оно должно исходить из живой и творческой христианской совести («к свободе призваны вы, братия», Гал. 5, 13), и на этих основах оно должно выработать восточно-православную дисциплину воли и организации.
2. Русское искусство — призвано блюсти и развивать тот дух любовной созерцательности и предметной свободы, которым оно руководилось доселе. Мы отнюдь не должны смущаться тем, что запад совсем не знает русскую народную песню, еле начинает ценить русскую музыку и совсем еще не нашел доступа к нашей дивной русской живописи. Не дело русских художников (всех искусств и всех направлений) заботиться об успехе на международной эстраде и на международном рынке — и приспособляться к их вкусам и потребностям; им не подобает "учиться" у запада — ни его упадочному модернизму, ни его эстетической бескрылости, ни его художественной беспредметности и снобизму. У русского художества свои заветы и традиции, свой национальный творческий акт: нет русского искусства без горящего сердца; нет русского искусства без сердечного созерцания; нет его без свободного вдохновения; нет и не будет его без ответственного, предметного и совестного служения. А если будет это все, то будет и впредь художественное искусство в России, со своим живым и глубоким содержанием, формою и ритмом.
3. Русская наука — не призвана подражать западной учености ни в области исследования, ни в области мировосприятия. Она призвана вырабатывать свое мировосприятие, свое исследовательство. Это совсем не значит, что для русского человека "необязательна" единая общечеловеческая логика или что у его науки может быть другая цель, кроме предметной истины. Напрасно было бы толковать этот призыв, как право русского человека на научную недоказательность, безответственность, на субъективный произвол или иное разрушительное безобразие. Но русский ученый призван вносить в свое исследовательство начала сердца, созерцательности, творческой свободы и живой ответственности совести. Русский ученый призван вдохновенно любить свой предмет так, как его любили Ломоносов, Пирогов, Менделеев, Сергей Соловьев, Гедеонов, Забелин, Лебедев, князь Сергей Трубецкой. Русская наука не может и не должна быть мертвым ремеслом, грузом сведений, безразличным материалом для произвольных комбинаций, технической мастерской, школой бессовестного умения.
Русский ученый призван насыщать свое наблюдение и свою мысль живым созерцанием, — и в естествознании, и в высшей математике, и в истории, и в юриспруденции, и в экономике, и в филологии, и в медицине. Рассудочная наука, не ведущая ничего, кроме чувственного наблюдения, эксперимента и анализа, есть наука духовно слепая: она не видит предмета, а наблюдает одни оболочки его; прикосновение ее убивает живое содержание предмета; она застревает в частях и кусочках и бессильна подняться к созерцанию целого. Русский же ученый призван созерцать жизнь природного организма; видеть математический предмет; зреть в каждой детали русской истории дух и судьбу своего народа; растить и укреплять свою правовую интуицию; видеть целостный экономический организм своей страны; созерцать целостную жизнь изучаемого им языка; врачебным зрением постигать страдание своего пациента.
К этому должна присоединиться творческая свобода в исследовании. Научный метод не есть мертвая система приемов, схем и комбинаций. Всякий настоящий, творческий исследователь всегда вырабатывает свой, новый метод. Ибо метод есть живое, ищущее движение к предмету, творческое приспособление к нему, "изследование", "изобретение", вживание, вчувствование в предмет, нередко импровизация, иногда перевоплощение. Русский ученый по всему складу своему призван быть не ремесленником и не бухгалтером явления, а художником в исследовании; ответственным импровизатором, свободным пионером познания. Отнюдь не впадая в комическую претенциозность или в дилетантскую развязность самоучек, русский ученый должен встать на свои ноги. Его наука должна стать наукой творческого созерцания — не в отмену логики, а в наполнение ее живою предметностью; не в попрание факта и закона, а в узрение целостного предмета, скрытого за ними.
4. Русское право и правоведение должны оберегать себя от западного формализма, от самодовлеющей юридической догматики, от правовой беспринципности, от релятивизма и сервилизма. России необходимо новое правосознание, национальное по своим корням, христиански-православное по своему духу и творчески содержательное по своей цели. Для того чтобы создать такое правосознание, русское сердце должно увидеть духовную свободу как предметную цель права и государства и убедиться в том, что в русском человеке надо воспитать свободную личность с достойным характером и предметною волею. России необходим новый государственный строй, в котором свобода раскрыла бы ожесточенные и утомленные сердца, чтобы сердца по-новому прилепились бы к родине и по-новому обратились к национальной власти с уважением и доверием. Это открыло бы нам путь к исканию и нахождению новой справедливости и настоящего русского братства. Но все это может осуществиться только через сердечное и совестное созерцание, через правовую свободу и предметное правосознание.
Куда бы мы ни взглянули, к какой бы стороне жизни мы ни обратились, — к воспитанию или к школе, к семье или к армии, к хозяйству или к нашей многоплеменности, — мы видим всюду одно и то же: Россия может быть обновлена и будет обновлена в своем русском национальном строении именно этим духом — духом сердечного созерцания и предметной свободы. Что такое русское воспитание без сердца и без интуитивного восприятия детской личности? Как возможна в России бессердечная школа, не воспитывающая детей к предметной свободе? Возможна ли русская семья без любви и совестного созерцания? Куда заведет нас новое рассудочное экономическое доктринерство, по-коммунистически слепое и противоестественное? Как разрешим мы проблему нашего многонационального состава, если не сердцем и не свободою? А русская армия никогда не забудет суворовской традицией, утверждавшей, что солдат есть личность, живой очаг веры и патриотизма, духовной свободы и бессмертия...
Таков основной смысл формулированной мною русской идеи. Она не выдумана мною. Ее возраст есть возраст самой России. А если мы обратимся к ее религиозному источнику, то мы увидим, что это есть идея православного христианства. Россия восприняла свое национальное задание тысячу лет — тому назад от христианства: осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности. Этой идее будет верна и грядущая Россия.
(Из книги Ивана Ильина "О России".
М., Изд. Сретенского монастыря, 2006)